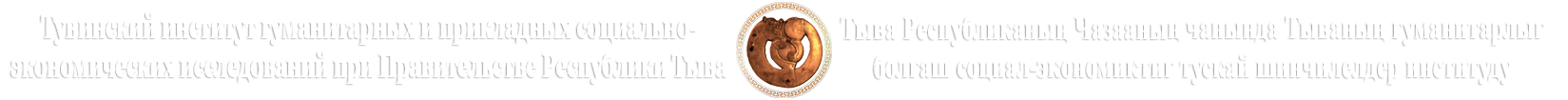15 октября в московской Штаб-квартире РГО состоялась презентация книги Президента РГО, министра обороны России Сергея Шойгу “Про вчера”. Сборник эссе посвящен людям, с которыми Сергей Шойгу работал и встречался в разных регионах нашей страны. Издание уже можно приобрести в книжных магазинах и сервисе ЛитРес.
С разрешения автора, мы публикуем пять рассказов из книги: “Охота”, “Нефтегорск”, “Олимпийцы”, “Не доехал” и “Запорожец”.
Охота
Была осень, было время охоты. Таких возможностей, как сегодня, тогда не было, но мы всё равно выезжали охотиться с друзьями. Как у любого охотника со стажем, разные были случаи, разные были события, разные были охоты.
И всё это, с одной стороны, связано с охотой, а с другой — не имеет к ней никакого отношения.
Так было и в тот раз, о котором идёт речь. В охотничьем азарте мы долго метались с места на место, пытались выследить зверя, ушли в ночь и уже в глубокой темноте стали выбираться на нашем ГАЗе-«козлике» на какую-то дорогу. Помыкались и поняли в конце концов, что плутать ночью нет смысла, нужно просто встать и дождаться рассвета.
Утром проснулись рано, снова поехали, подгоняемые вчерашним охотничьим провалом, увидели какого-то зверя. И опять провозились до вечера, и опять надо было дожидаться утра.
Короче говоря, утро второй ночи — мы спим в машине. Понимаю, что отчётливо слышу нарастающий звук вертолётных лопастей! И он мне не снится.
Советское время, вертолёт — диковина. Вертолёт с красными звёздами — ещё большая диковина. И вот рядом с нами садится вертушка, оттуда выскакивают люди с автоматами, бегут к нам:
— Всем выйти! Оружие не брать! — Всё серьёзно, без шуток, бойцы настроены решительно.
Пограничники. Судя по тому, что подняли в воздух вертушку, нас прилетели жёстко задерживать. Но офицера явно разбирает смех, он едва сдерживает улыбку.
— В чём дело?
— Вы хорошие, конечно, ребята, но совесть надо иметь. Вы вторые сутки охотитесь на территории Монголии.
Слава советским пограничникам. Мы тогда разошлись миром.
Несколькими годами позже тоже достаточно далеко забрались в тайгу. Кстати, забросили нас опять же пограничники, попутным вертолётом. В той глухомани жил наш друг. Он бросил институт, по здоровью, и уехал в тайгу. Работал егерем, был таким уважаемым мужиком у местных.
Рядом с его маленьким, буквально четыре или пять домиков, посёлком стоял санаторий. Был там какой-то источник, в который граждане отдыхающие опускали конечности, и от этого им становилось хорошо.
Естественно, у санатория была своя небольшая столовая. И всё, что не доедали «курортники», а, надо сказать, жили люди хорошо, сытно, оставляли в тарелках помногу, — всё это вываливали прямо здесь же, недалеко.
Мы уже сидели у нашего друга в гостях, планировали, как поедем по рекам — рыбачить, охотиться. И вдруг в избу влетает какая-то похожая на курицу, бедрастая женщина. Хлопает крыльями-руками, кричит: «Медведь на свалке!»
Наш друг хватает ружьё и бегом туда.
В общем-то всё логично: медведя заинтересовал душок подгнивающих отходов из пищеблока и он, естественно, пришёл всё это есть, и, видимо, далеко не первый раз.
Рядом со свалкой росла высокая трава. И я вижу, как она прямо подгибается — медведя не видно, но он явно бежит на нас. Как положено, всё село в это время стоит позади нас. Старики с палками, взрослые с малышами на руках, дети.
Наш друг стреляет. Второй раз стреляет! И медведь буквально в паре метров от наших ног падает. Мы к таким поворотам событий непривычные, друг наш — тоже, не каждый день летящего на него зверя валит. Все мы в некотором замешательстве, стоим, осмысливаем, выдыхаем.
Поворачиваемся что-то спросить у местных, что-то сказать и видим: на зимнем спиле — это такой полутораметровый пень, зимой ведь снег большой, и пилят высоко — так вот, на этом гигантском пне сидит девчушка, года два или три, наверное. Играет во что-то там своё, ногами болтает: «Ля-ля-ля!»
Здесь медведь, там девчушка, а сзади — никого, вообще никого.
Постепенно деревенские возвращаются, собирается толпа — медведя взять, обсудить происшествие, всё хорошо. А там, в таких таёжных деревнях, как правило, есть парк. Парк культуры и отдыха имени Гастелло, например. Не знаю, почему Гастелло, знаменитый советский лётчик, но назвали деревенский парк его именем. Или, может быть, имени Горького парк, точно не помню. Но точно не Толстого и не Достоевского, в их честь парки не называли в Сибири почему-то.
Как эта вся красота выглядит? Ворота, как правило, красочно расписанные. По бокам — вправо и влево, метров по тридцать-сорок — забор. Стоит какая-нибудь качель, одна или две. Что-нибудь типа ларёчка, в котором продают местную выпечку и иногда газировку, привезённую из райцентра. А весь лес, вся тайга за воротами — километров двести, до самой монгольской границы, это и есть парк имени Гастелло или Горького.
Короче говоря, местные ринулись в этот парк, спасаться. Баба эта, которая прибегала, голосила: «Медведь, медведь! Всю деревню сожрёт!» — она рассказывает:
— Бегу, а он сзади сопит, дышит! Я тут споткнулась, падаю. Думаю, лицо надо закрыть, чтобы красивой хоронили… А он мне на спину наступил, лапами прямо оттолкнулся и дальше побежал. Голову поднимаю — о! Муж мой!
Причём она не просто всё это рассказывала, она и начала, и закончила вот чем: «Никто не видел эту собаку? Ну, мужа моего!» Хотела, видимо, поговорить с ним, прояснить некоторые моменты.
Охота в тех местах всегда либо задавалась «не с того конца», либо продолжалась с сюрпризами. Как-то раз, во время зимних каникул, мы с друзьями решили поехать «белковать». Надо сказать, что прежде мы этим никогда не занимались. Да и заниматься, по всей видимости, не надо было. Пушнина, мех — это было не наше и не про нас. У нас охоты всегда были весёлые, динамичные, а здесь требовалось куда-то идти, что-то делать, расставлять кого-то. Но в основном это была стрельба из мелкашки — винтовки-тозовки.
Мы втроём добрались, прилетели на вертолёте. Выгрузились. Причём всё это довольно далеко в тайге, до ближайшего жилья — непонятно сколько. Прилетят за нами, чтобы забрать обратно, через восемь дней. Мы за эти восемь дней должны походить вокруг, добыть белку или какого-то другого меха, который в ту пору был штукой дефицитной.
Естественно, когда только собирались туда, каждый брал на себя долю ответственности, обязанностей, «общественного» снаряжения. Кто- то должен был взять небольшую аптечку — йод, бинт, анальгин. На случай «не дай бог что». Кто-то должен был взять часть продуктов, которые должны стать дополнением к тому рациону из дичи, которую можно и нужно было добыть.
Мы разбирали вещи, балагурили, шутили, предчувствуя хорошую охоту. Хорошее зимовье, никого вокруг нет, погода изумительная, снег белый, небо звенящее, синее. А один из наших товарищей как-то всё больше молчал. Когда его уже начали пытать: «Чего молчим?» — сознался: «Кажется, я вам привёз большую задницу». Слово там было даже погрубее.
На нём было — взять патроны. Он должен был привезти, по-моему, двадцать или тридцать пачек, тозовочных. В каждой пачке — по пятьдесят штук. И он эти самые патроны забыл.
Слава богу, в таких избушках, зимовьях, охотники всегда оставляют патроны, уходя. Кто один, кто парочку, от разных видов оружия, разных калибров. Вдруг человек заплутал, один, всё кончилось? Оставляют чай, оставляют соль, спички, сухие дрова.
На своих продуктах и на этих немногочисленных, заботливо оставленных патронах мы протянули неделю до вертолёта.
* * *
Наши таёжные вылазки довольно часто получались богатыми на охотничьи подвиги. Как-то раз мы поехали на солонец. С нами был парень, неплохой такой, не робкого десятка, но по таёжным меркам неопытный совершенно.
Там, на солонце, на земле, сделан сруб — ложишься и лежишь, зверя ждёшь. И этот наш новичок ничего лучше не придумал, как взять деревенскую, не заводскую овечью шубу. По-модному — дублёнка, но на самом деле — обычный деревенский полушубок. Чем они отличаются один от другого — этот овчиной пахнет, а тот уже обработан химией.
И вот на эту приваду и на этот запах пришёл медведь. Всю ночь он ходил-сопел вокруг лёжки. Понять не может, откуда наносит овчинкой: с одной стороны подойдёт — вроде нет запаха, с другой зайдёт — вроде есть.
А парень медведя не видит, только слышит. И очень ему неуютно — ночь, один, рядом медведь пыхтит. Стрелять — не убьёшь, ранишь только. Так не делается.
Мы в ту ночь были на другом месте. Утром подошли, парень наш свистнул, я свистнул в ответ, пароль — отзыв: «Не стреляй, свои».
И дальше была картина как в фильме «Особенности национальной охоты». Когда в машине герой всю ночь просидел в милицейской, его товарищи открывают дверь, а он им: «Су-у-уки…» Вот это один в один был наш парень.
Про охоту ещё много чего можно вспомнить.
Нефтегорск
Тот май на севере Сахалина был необычно жаркий. В городе цвели вишни. Уже посадили картошку. Тайга вокруг города дышала теплом. В школе праздновали последний звонок двадцать шесть выпускников. Вместе с учителями. Днём было солнечно. Праздновали допоздна.
Нефтегорск рухнул в час ночи. Именно рухнул. Землетрясение, почти восемь баллов. Уцелело всего несколько зданий: отделение милиции, часть школы, часть администрации. Школа и все пятиэтажки, построенные из шлакобетонных панелей, легли, оставив внутри себя спящих, любящих, ждущих. Девушек с белыми бантами, в белых фартучках и гольфах. Ребят с пушком под носом. Ещё и не брившихся. Все они были в школьном зале. Их доставали из-под завала ещё четыре дня. Из двадцати шести выпускников выжили девять. Под обломками погибли две тысячи сорок человек, большая часть жителей города.
Весь Сахалин накрыла трагедия в Нефтегорске. Как в огромном котле, в ней кипело горе каждого в отдельности человека, каждой семьи.
Мать обезумела от горя и не понимала, почему её девочку, с которой она говорит и которую она слышит, не могут достать: «Не можете поднять какие-то две панели. Вот же она — рука, плечи, ещё чуть-чуть — и увидите лицо…»
Объяснить невозможно, что, как только поднимем эти самые две плиты, ей, её девочке, жить останется пятнадцать, может быть, двадцать минут и мы ничего сделать не можем, ну почти ничего. Можем подержать её ещё на этом свете два-три часа, не трогать завал, не поднимать, не разбирать.
Совсем обессилевшую мать, уже без остатков слёз и эмоций, подвёл к дочери, точнее, к месту на руинах, где можно было с ней общаться. Оставил их втроём. Третьим был спасатель-парамедик, державший капельницу, поставленную в вену под ключицей девочки, в единственное место, очищенное от завала. Жёстко, даже грубо парамедик сказал матери: «Садись, поговори, наговорись с дочкой. Мы её не спасём, и никто не спасёт. Полтела передавлено, если б только нога. Ноги, руки можно ампутировать, а полтела — нельзя».
Все ушли, они остались попробовать наговориться. Мама и двенадцатилетняя дочь.
И так по всему бывшему городу — десятки, сотни таких мам, отцов, бабушек, судеб.
* * *
В Нефтегорске было много коров, которых держали в сарайчиках, где доили, кормили, поили. На третий день всё это недоеное стадо, потерявшее в землетрясении хозяев, начало реветь. Именно реветь, мычанием это назвать нельзя. Сотни четыре, думаю, или даже больше бурёнок недоеных, непоеных. Если сегодня не подоить, всё, завтра на мясокомбинат. Начали искать, кто может доить. Нашли. Боец с важным видом сказал: «Дайте мне тёплую воду, полотенце вымя обтереть, а вот дальше не помню, как бабка делала. Как-то дёргала».
Стало понятно, что бурёнок не спасём, отправили всё стадо на мясокомбинат. В тот же день начали, почти как волки, выть собаки в гаражах, на привязи — хозяева-охотники не пришли, не накормили. С ними разбирались местные ветеринары.
* * *
Штаб развернули рядом с полуразобранной хоккейной коробкой, больше похожей на загон из неструганых досок. Всё организовали в одном месте: администрацию, столовую, морг и больницу. Стали вести списки найденных — погибших и живых. Регистрировать. Устанавливать, кто куда направлен, к кому за чем обращаться. Требование: всех, кого хоронят не здесь, надо везти в цинковых гробах. Жарко ведь. Тела начинают разлагаться. Но цинковых гробов нет. А до опознания где хранить тела? Собрали со всего Сахалина рефрижераторы.
Мало. Грубо сколоченные гробы стоят в четыре яруса. Краем глаза вижу: японские журналисты открывают гробы, снимают изувеченных покойников. И тут же наши с криками побежали их разгонять. Видимо, проснулась обида за страну. Журналисты повели себя не по-людски как-то…
В первый день пришёл мужичок, то ли рыбак, то ли огородник, сказал: «Был на выезде с мужиками. Вернулся только, а тут такое.» В общем, ему надо было два гроба цинковых. Один большой, под жену, поменьше — под дочку пяти месяцев. «Найду и повезу на Кубань. Мы оттуда». Через сутки вновь пришёл: «Давайте один гроб, маленький. Жену вот откопали, ни царапинки». На второй день он уже вместе с женой помогал спасателям работать. Спрашивал: «Почему сняли собак? Верните. Там же могут быть живые!» Объясняли: «Известковая пыль разъела слизистую носа, глаза. Лапы порезаны. Надо два-три часа отдохнуть четвероногим». И вот тогда пришла простая, но, как выяснилось впоследствии, очень эффективная идея-технология. Минута тишины. Ну, не минута, а примерно полчаса или даже час. Остановили всё: краны, бульдозеры, генераторы, гидравлику. Все стали слушать и спрашивать: «Если живые — отзовитесь, крикните. Если не можете — постучите». И в первую же паузу-тишину больше двадцати точек услышали. Начали к ним пробираться, разбирая перекрытия. Плиту за плитой.
На пятые сутки, к исходу четвёртых, пришёл тот же рыбак-огородник с женой. Она в зимнем пальто поверх сорочки. Говорят: «Не надо гроб детский, не надо». Нашли их пятимесячную дочку, живую и невредимую. Совсем крошка, маленькая, осипшая. Она была завёрнута в какое-то одеяло и почему-то с мягкой игрушкой, явно не по возрасту. Счастливые, удалились. Семья. Я больше их не видел. Хотя и слышал о них. То ли их куда-то не записали, то ли не вычеркнули. В общем, искали…
* * *
Нефтяник. Он попросил покурить. Предложили ему всё, что было у ребят-спасателей: «Ту-134», «Плиска», «Родопи». Он от всего плевался:
— Покрепче нет ничего? Вы что, только бабские курите?
Нашли «Приму». Но мундштук быстро намок, сигарета развалилась на табак и бумагу. Точнее, расползлась. Долго отплёвывался. Нашли «Беломор», причём ленинградский, лучший, произведённый на фабрике имени Урицкого.
Разобрали всё вокруг него, под спину сделали что-то похожее на носилки, подсунули спальник, подушку и стали изображать работу по разбору четырёх этажей, которые, сложившись пирогом, лежали на его ногах и тазу. Никто не знал, что делать. Человек жив, но полтела раздроблено и зажато. Знали, что не выживет. Знали, что решение по разбору завала — это смертельный приговор. Точнее, его исполнение. И никто не решался стать исполнителем.
Принесли соку. Попросил. Виноградный, сладкий.
— Слушайте, у вас что там, нет нормального томатного с перцем-солью?
Нашли.
Ну, мужики, если вы и дальше будете так работать, вас либо разгонят, либо родственники грохнут.
— Какие-то сраные три плиты который час не можете разобрать. На хер вам все эти прибамбасы: перфораторы, гидравлика, пилы по бетону? Давно бы кувалдой расх…чили без всего этого ливера…
Пытались отвлечь его как могли.
Не решался никто разбирать плиты, и я в том числе.
* * *
Позвали на другой дом, точнее, груду пыльных панелей. Нашли деда. Он чудом уцелел под платяным шкафом старым. Крепкий был шкаф, из цельного дерева.
Докопались, пробились, разобрали верх шкафа. С нами рядом дочь его — рада, машет руками, кричит: «Скорей! Скорей!» А дед спокойно говорит оттуда, снизу, из могилы практически:
— Примите всё, что в шкафу: три комплекта постельного белья и шубу.
С нами работал тогда Андрей Рожков. С больной спиной, но всё равно был с ребятами в деле. Погиб в 1998 году, когда на Севере испытывал водолазное оборудование. Так вот, Андрей сорванным ещё сутки назад голосом отвечает деду:
— Пошёл ты на х…! И дочь твоя! Уже от работы люди с ног валятся, а он наволочки спасает!
Дед нехотя протянул руки, вытащили. Девчонка рыдает то ли от радости, то ли от жуткой усталости и безысходности. Ни дома, ни вещей, ни документов. Из всей родни, слава богу, хоть отец нашёлся.
* * *
Вернулся к нефтянику. Вижу, всё понял сам.
— Налей водки.
Выпил залпом стакан. Жадно выкурил папиросу.
— Ну всё, мужики. Пока. Подымай. Мать её…
Держали мы его почти сутки. Дальше, казалось, день и ночь стали бесконечными. Это был первый и последний случай, когда четверо суток на ногах.
* * *
Собирали там, как всегда после катастроф, ценные вещи, документы, охотничье оружие. Поставили парту из школы, вроде как пункт сдачи. Видим: женщина в возрасте, начальственного вида, но сильно растерянная, и милиционер, слегка выпивший. Говорю им:
— Принимайте находки.
— Не можем.
— Надо. Пишите акты сдачи и приёмки с описанием всего, что сдаём.
Землетрясение не причинило вреда памятнику вождю. Устоял. Как в песне «Ленин всегда живой».
Кто-то надел ему респиратор. Памятник стал главным ориентиром на завалах.
Приехал губернатор Фархутдинов, сказал:
— Уже больше двух тысяч погибших. Со спасёнными понятно. Заработали двадцать шесть воздушных мостов, перебрасываем вертолётами, самолётами во все города и больницы Дальнего Востока и Сибири. Погибших хороним. Где людям жить? Города нет. Новый построим не скоро…
Именно тогда появились первые жилищные сертификаты. Расселили всех за месяц по Сибири и Дальнему Востоку. Сотни, тысячи вопросов, проблем, судеб. Каждая из них достойна отдельного рассказа.
Вспоминается сильная, неунывающая женщина, которой придавило обе ноги. После ампутации в Хабаровске осталась одна. У неё погибли все близкие, муж, дети. Через несколько лет узнал, что она вышла замуж, родила. Невероятной крепости люди. И таких историй сотни, как и людей, которые боролись за каждую жизнь. И за свою, и за других.
Впрочем, боролись не только люди. Был среди спасателей спаниель Лёнька. Первый герой тех событий, нашедший под завалами около трёх десятков человек, несколько кошек и своих домашних соплеменников. Тогда даже не думали, что пройдёт два-три года и у нас будут специальные школы-питомники и десятки четвероногих готовых ге- роев-спасателей.
Что касается города, его нет. Пропал с карты, из жизни страны. Рекультивировали. Осталось кладбище, памятники. Могилы с именами и фотографиями. И братские захоронения, в которых упокоились изуродованные, неопознанные тела. Каждый год весной люди на острове собираются и едут туда. Те, кто выжили. Те, кто спасали. Дорога к Нефтегорску исчезает, зарастает, и проехать можно только на подготовленных машинах.
Олимпийцы
Свою первую Олимпиаду мы проводили на фоне бойкота западных стран — за ввод войск в Афганистан. На её фоне незамеченной осталась людская река в день похорон Высоцкого, в новостях были очки, голы, секунды, никто и не заметил, как из Москвы и городов проведения Игр выдворили цыган, бомжей, проституток — всё, что портило витрину страны победившего социализма.
По стране потянулись «олимпийские этапы». Так мы их, во всяком случае, тогда называли. Из городов Олимпиады — Питера, Таллина, Киева, Минска и Москвы — повезли на окраины разных сортов и мастей тунеядцев, валютчиков, фарцовщиков. Ну и, конечно, проституток.
Их отлавливали и отправляли группами по городам и весям на перевоспитание. В частности, трудиться на стройках социализма.
Лето 1980 года. Вокзал, город Ачинск. Мы встречали вагоны со жрицами любви. Уже наготове автобусы, в которые мы их погрузим. Повсюду яркие плакаты и транспаранты с лозунгами на все случаи нашей тогдашней жизни. Гранитная табличка на стене притягивает взгляд: «2 (15) февраля 1900 года Владимир Ильич Ленин, возвращаясь из сибирской ссылки, выехал со станции Ачинск в город Уфу».
Суетятся кадровики и сотрудники спецкомендатуры: где жить новым труженицам ударной стройки? Нарисовались на вокзальной площади и представители комитета комсомола. Посчитали, что без них такие дела, как и любые другие, в стране не делаются.
О прибытии этого поезда не объявили. Подошёл состав, медленно проехал мимо пассажирской платформы чуть дальше, к грузовому терминалу. Скрипнули тормоза, грохнули сцепки, состав замер.
Конвой с автоматами распределился по грузовой платформе и по открытым вагонам, похожим на почтовые. Зазвучали окрики: «Первый пошёл, второй пошёл, третий…»
На платформу высыпали потрёпанные, взлохмаченные девицы в модных турецких дублёнках и невиданных тогда вязаных пальто. По команде конвоиров они садились на корточки, держа руки за головами. Когда вышли последние, перрон напоминал загон перед курятником. «Не разговаривать!» — орали на них конвоиры, но кудахтанье девиц не смолкало.
Начальник конвоя вручил нам чемодан с личными делами проституток. Вагоны с грохотом закрылись. Из динамиков доносились команды дежурного по вокзалу: «Перегнать!», «Отцепить!» — эхом отражались от зданий.
Поезд отошёл. Проститутки в тех же позах ждали, что будет дальше. Мы присмотрелись к ним. Измятые, серые лица. Представьте женщин, которые больше трёх месяцев были в пути по этапам.
Им предстоял исправительный труд. И давался он им непросто. Первые рабочие дни новоявленных штукатуров-маляров ознаменовались неприятными эксцессами и массовым саботажем.
— Девушки, когда закончите? — спрашивал у них мастер.
В ответ летело:
— А мы с тобой, начальник, ещё не начинали…
Молодые мастера и прорабы с трудом пытались установить дисциплину. Постепенно они осваивались и понимали, что Олимпиада — это не только радость спортивных побед, не только «быстрее, выше, сильнее», но и то, что за кадром. То, что не для всех. А нерадивые работницы знали: с такими статьями, как у них, — тунеядство или нарушение паспортного режима — хуже уже не будет. Их, условно осуждённых, в зону не отправят. И они вели себя расслабленно-вызывающе.
У начальства же были свои планы. Через пару недель на объекте появились, как говорят в армии, старослужащие. Из зоны прибыли матёрые бригадирши. Их, отсидевших уже не раз, пригнали с простой задачей — организовать трудовой процесс любыми методами. Их было видно издалека. Коренастые, все крашенные перекисью, волосы аж хрустят, помада яркая, зубы редкие, длинные фуфайки, похожие на полупальто, и обязательно серо-коричневые шали. Они не работали, их задача была — заставить работать «олимпийцев». Методы были суровые.
— Руки покажи! — приказывала бригадирша какой-нибудь своей подопечной.
Дальше из кармана бригадирши появлялись кусачки. Ими обкусывался маникюр, чтобы не мешал работать. Затем бригадирша удалялась со словами:
— Через час приду, не будет сделано — обстригу по первую фалангу.
Так сдвинулось с мёртвой точки дело, ускоренное новыми, «передовыми» методами. Бригадирши могли и порезать слегка своих подопечных. Или, например, девица-труженица решила палец зелёнкой помазать и «случайно» вылила весь пузырёк себе на лицо. По-разному тружениц мотивировали заботливые бригадирши.
И дело пошло: росли квадратные метры штукатурки, побелки и покраски.
Однако вскоре работа вновь начала скатываться в тунеядство. Приобретённые на воле навыки взяточничества забывались трудно. А потому предложения бригадиршам посыпались со всех сторон:
— Я не прихожу на работу, но ты отмечаешь меня в табеле и получаешь сто рублей в месяц за своё молчание.
Сто рублей по тем временам целая зарплата. И бригадирши поддались. Леность и ложь захватили стройку. Вместе с этим жрицы любви погрузили в разврат и стройку, и город.
Наконец Олимпиада кончилась, отзвучала песня «До свиданья, мой ласковый Миша», из центральных советских городов разъехались спортсмены и гости. В Ачинск начали прибывать новые этапы с новыми людьми, отправленными на трудовые работы, но этот — «олимпийский» — навсегда вошёл в историю строительства Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Хотя табличку, как о ссылке Ленина, в их честь на вокзале не установят.
Через много лет после тех событий я разговорился с одним солидным в прошлом комсомольским работником. Позже он стал активным участником приватизации и заслуженным деятелем залоговых аукционов. В 80-е годы состоял в ГК ВЛКСМ, жил и работал в Москве, открывал к Олимпиаде линию по разливу «Кока-колы», призывал нас из столицы строить быстрее, подводил итоги нашей работы, докладывал на пленумах и съездах о наших трудовых победах. И рассматривал наши кандидатуры на предмет награждения, достойны ли.
Но что самое интересное, он с удовольствием вспоминал, как в 1979-1980 годах в Москве он с оперативными комсомольскими отрядами занимался сбором и отправкой в регионы «олимпийского этапа». То есть мы из Сибири и всей страны поставляли на олимпийские объекты лучшее: рабочих, технику, материалы (например, ангарская сосна шла на велотреки и игровые площадки), а из Белокаменной к нам взамен ссылались на праведные и не очень труды все те, кто мешал празднику. Такой вот обмен. Неравноценный. Но ведь справились как-то.
Не доехал
Сибирь, зима, стройка. За полгода до сдачи этого завода заседания штаба стройки проходили два раза в сутки — незадолго до полудня и в час ночи, после разнарядки второй смены, без выходных.
В помещении вдоль стены стояли стулья и лавки. На стенах висели сваренные из трубы регистры отопления. В центре длинный стол. За ним устраивается начальство, человек шестьдесят-семьдесят руководителей: генподрядчики, субподрядчики, заказчики, наладчики и, конечно, партийные, профсоюзные, комсомольские активы. Обычно начальники управления и главные инженеры сидели в углу, подальше от президиума, ведущего заседания штаба. Там можно было вздремнуть.
В то время «штабы» проводил Пётр Петрович Сельский — заместитель министра строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР. И заседания называли «сельский час». Человек он был горячий, но профессиональный и справедливый. Не докапывался до подчинённых забавы ради. Кстати, по его ходатайству через пять лет после этого я за сдачу завода был награждён автомобилем ГАЗ 24-10. По сегодняшним меркам это… даже не знаю.
Итак, штаб, зима, около двух часов ночи. Тихо заходит, пригнувшись, главный инженер управления «Сибстальконструкция» Вася Доценко, в свитере, без полушубка, трясётся от холода, спрашивает у нас шёпотом:
— Выпить есть? Согреться. А не то сдохну.
Тогда у нас было модно делать и носить самодельные фляжки в виде блокнотов или книг — из нержавейки. Были мастера. Я тихо дал Васе фляжку, он так же тихо отпил больше половины, отмяк, согрелся и принялся рассказывать. Ехал на заседание штаба из города, это примерно двадцать пять километров. У главных инженеров были машины — «Москвичи». Называли их по-разному: «шиньон», «пирожок», где как. В багажнике у них обычно валялись электроды, струбцины и всякая мелочь, необходимая инженеру-водителю. Дорогу перемело, Вася сам за рулём, один. Застрял в сугробе, дождался вахтового «Урала» с кунгом. А там внутри тепло, печка, бригада рабочих режется в домино или в карты. В общем, подцепили Васю, протащили через занос. А он сидит, из машины не выходит — греется. В кунге подумали, что Вася отцепил трос, сообщили водителю. Дверь кунга открылась, закрылась. Вася подумал, что трос отцепили вахтовики. И понеслось! Ночь, темно, метель. «Урал» притопил, «Москвич» болтается сзади на тросе, гудит, моргает. Кое-как разглядели. Вася догуделся, доморгался! Выскакивает из машины, подбегает к «Уралу», вытаскивает водилу, даёт ему пинка и орёт:
— Ты что, козёл, не видел, что тащил?! Завтра в контору, уволю без выходного пособия! А теперь пошёл на хер!
Водила сел и уехал… вместе с «Москвичом».
Полушубок остался в «Москвиче». Тьма. Вася побежал по дороге, не стоять же на ледяном ветру. Впереди неодолимые километры. И вот пока он дождался попутку, пока добрался — чуть не замёрз насмерть. В одном свитере.
Разбитый «Москвич» вахтовики оставили на площади перед диспетчерской. Увидели, что он болтается сзади, затормозили, и «Москвич» влетел под «Урал».
Эта история потом обросла домыслами и весёлыми подробностями.
Но, несмотря на такие вот случаи, завод сдали. Хороший получился завод. Современный. Потом пришло новое время, новые люди, владельцы, у которых есть, наверное, свои истории, как они что-то строили, что-то создавали, модернизировали производство. И сегодня мало у кого уже есть сомнения, что это именно они, новые хозяева, построили, запустили, отладили. Как-то увидел передачу: директор этого завода даёт интервью. Представляется чуть ли не героем-первопроходцем. Да. Может быть, новым хозяевам стоит как-то поскромнее рассказывать о том, как они пахали по шестнадцать часов в сутки… по уже вспаханному. Пахари.
Запорожец
Гриша, или Григорий Николаевич, а по-шофёрски просто и уважительно — Николаич. Водитель. Пожилой, опытный, за спиной сотни тысяч километров трудных российских дорог. Приехал в Туву после войны и остался. Не учился, женился. Шоферил на грузовиках ЗИЛ-157, ГАЗ-51. Потом стал возить начальство разного уровня. Дорос до водителя гаража обкома КПСС, пересел на «Победу». Часто хвастался, что он (точнее, начальник его) первым получил «Победу» полноприводную. Тогда её называли «утюг». Потом была знаменитая «Волга» ГАЗ-21 с оленем на капоте. Потом ГАЗ-69. По его словам, проходимее и неприхотливее этой машины нет и не будет. А уже совсем перед пенсией он пересел на советскую мечту времён застоя — «Волгу» ГАЗ-24.
Это была вершина благополучия. Предел мечтаний. Хотя по технической части в ней не было ничего особенного. На фоне мировых достижений автопрома. В СССР тогда даже в гаражной болтовне с байками и приколами никто не рассказывал про коробку-автомат, про машину с двумя педалями — газ и тормоз, потому что никто про такое чудо не знал.
Километры наматывались на одометр, шины стирались, дожил Николаич до пенсии. Хотел поработать ещё, но ему намекнули, что хватит. Зато он получил от руководства в качестве благодарности за многолетний труд талон на «Запорожец». Такой персональный автомобиль в то время тоже был большой редкостью. И производил впечатление. Особенно где-нибудь в далёком селе.
В общем, ушёл Николаич на заслуженный отдых. Грибы, ягоды, огород, охота, рыбалка. Автомобиль для этого был очень кстати.
Нежно полюбил Николаич свой «Запорожец» с первого дня владения. И вот встретил я его на пароме через Енисей. Паром уже собирался по тросу, натянутому через реку, отходить, когда на причал выскочил сигналящий всем огненно-красный, как пионерский галстук, «Запорожец». И последним успел заехать на паром. Водитель с достоинством выбрался из машины. За ним последовала его жена.
Речной паром шёл медленно, и небольшая компания собралась возле Николаича поговорить. «Голубика пошла, по ягоды вот собрался с женой, — пояснил он и с гордостью добавил: — А на этой машине я пройду где угодно, в любую дурнину залезу. Чем хороша — двигатель сзади. Не проходишь передом, развернулся — и задом! Как на тракторе, в любую гору!»
Ещё к нам подошёл студент, приехавший на каникулы, поддержал разговор и попросил подбросить по пути. Николаич добряк: «О чём речь!»
Берег приблизился, причалили.
Одна за другой машины выгружаются, а пассажиры садятся уже на суше. Последний — красный «Запорожец». Кто не знает, подскажу: там, где у всех нормальных машин первая скорость, у «Запорожца» — задняя. Распираемый на людях от гордости Николаич это забыл. Он по-хозяйски отправил жену на берег вместе со студентом-попутчиком, завёл «Запорожец», газанул для куража и, включив первую, которая задняя, лихо спрыгнул в реку. Задом. Спасать Николаича кинулись все, а вытащил, по-моему, студент. Машина алым пятном виднелась на дне. Конечно, все наперебой полезли с советами, как спасти «Запорожец». Стали думать, где взять кран, как подогнать, как восстановить: «Достанешь, слей масло, продуй и только тогда…»; «Можно зацепить и по-тихому вытащить на берег»; «Нужен трактор и длинный трос»; «Главное — хорошо просушить, не торопясь».
Заключил эти рассуждения паромщик как крупный знаток и флотоводец: «Там ниже по течению тягачи речные таскают плоты леса. Думаю, за бутылку горькой подцепят и по дну выкатят потихоньку на косу, а там и трактором можно».
Горькой нашлось аж несколько бутылок. Судя по лицам и разговору, речники, пока шли к нам, уже приняли по двести-триста грамм. Или это было их обычное состояние. Поныряли, поматерились, зацепили машину. И мощный катер, который таскает по реке плоты в четыреста кубометров леса, отошёл чуть вглубь, натянул трос, дал газу и поволок утопленника к косе-перекату, где помельче.
Естественно, все шли вдоль берега в ожидании. Временами показывающаяся над водой крыша «Запорожца» тревоги ни у кого не вызывала. Зря.
Любовь и гордость Николаича, всплывая и опускаясь на дно, крутясь, как блесна, добралась до отмели. Ободранная об дно до металлического блеска, машина, без стёкол и даже следов красной краски, сиротливо ждала второй части экзекуции — вытягивания на берег.
Очень хорошо помнит каждый, кто имел в то время машину, тем более новую: не то что «Запорожец», даже мотоцикл «Урал» немного приподнимал своего обладателя над всеми остальными.
Народ тогда почти поголовно был рукастый, так что, думаю, успокоившись, «Запорожец» восстановили, выправили, покрасили.
* * *
Перебираешь в памяти то время. Как мы жили. Как становились другими и страна становилась другой. И ощущение счастья — этот кусок памяти. Чаще всего, когда вспоминаю о детстве, вспоминается один вечер. Когда сбывались мечты.
Перед Новым годом отец зовёт меня к печи на кухне, достаёт свёрток, рвёт вощёную бумагу, там коньки-«снегурки».
Он открыл дверцу печи и кинул коньки в огонь. Я даже крикнуть не успел. Вся жизнь оборвалась. Через какое-то время, утерев мне сопли, достал кочергой коньки, уже без густой солидольной смазки. Быстро вышел на улицу и окунул их в снег, лезвия зашипели. Коньки эти были без ботинок — просто металлические лезвия, которые к любой обуви можно было верёвками прикрепить. И отец таким образом — в печи — просто заводскую смазку с них убрал, чтобы не пачкались. После этого было у меня много разных лыж, коньков, но помню я именно эти.